На прошлой неделе коллега принесла в офис домашний обед — киноа с авокадо и лососем. Я сидела со своей гречкой и котлетами и вдруг поймала себя на мысли: а ведь в моём детстве котлеты были совсем другими. В них было больше хлеба, чем мяса, а гречка подавалась с жёсткой печенью, пережаренной до состояния подошвы. И знаете, что самое странное? Я до сих пор иногда готовлю именно такие котлеты. Просто потому что они — родные.

Недавно разбирала старые фотографии и наткнулась на снимок 1995 года с «подготовкой» к новогоднему столу. Мама замешивает оливье в тазу (тот самый, в котором обычно замачивала бельё), селёдка под шубой в форме торта, стоят закуски, что-то нарезают, улыбаются. Сейчас это выглядит как музейная экспозиция «Быт конца XX века», но тогда это был праздник. Советская кухня — это не про изысканность и не про инстаграмные фотографии. Это про то, как накормить семью тем, что есть, и сделать это с душой.
Многие блюда той эпохи сегодня кажутся странными, слишком тяжёлыми или неоправданно простыми. Но именно они хранят в себе вкус детства, запах дома и ту самую заботу, которую не заменишь никакими авокадо-тостами. Давайте честно признаемся: за эти блюда немного стыдно, но мы их всё равно любим.
Селёдка под шубой
Слоёная конструкция из селёдки, картошки, свёклы и майонеза — блюдо, которое на разрезе выглядит как геологический срез. В современной кулинарии это гастрономическое преступление: рыба с майонезом, всё это под толстым слоем варёных овощей, никакого баланса вкусов. Но попробуйте найти новогодний стол без шубы — не найдёте. Селёдка была доступной, овощи хранились в погребах, майонез делал всё вкуснее, вот и весь секрет популярности.
Я до сих пор помню, как мама выкладывала каждый слой с такой тщательностью, будто создавала произведение искусства. И знаете что? Так и было. Сейчас я иногда делаю облегчённую версию — с йогуртовой заправкой и меньшим количеством слоёв, но всё равно верхний слой покрываю свёклой. Традиция обязывает.

Салат «Оливье» (да, тот самый в тазике)
Классический оливье французского повара Люсьена Оливье был изысканным блюдом с рябчиками, раками и каперсами. Советская версия превратила его в народный хит из варёной колбасы, консервированного горошка и литров майонеза, делая его доступным, народным (хоть и страшно неказистым). Стыдно? Может быть. Но когда я режу все эти кубики, я чувствую связь с миллионами семей, которые делали то же самое.
Почему тазик? Потому что семьи были большими, гости приходили в течение нескольких дней, а холодильники — маленькими. Проще было сделать сразу много и держать на балконе. Сейчас я готовлю оливье в обычной миске, использую домашний майонез и иногда добавляю авокадо (мама бы не поняла), но суть остаётся та же — это ритуал, без которого не бывает Нового года.

Холодец и другие желейные блюда
Студенистая масса с кусочками мяса, плавающими в желе, — блюдо, которое нужно объяснять иностранцам минут двадцать, и они всё равно не поймут. Холодец требовал времени: варить голяшки и копыта по восемь часов, потом разбирать мясо, процеживать бульон. Зато результат стоял на балконе и был готов к любому застолью. А если хотелось чего-то более «праздничного», делали заливное — ту же идею, но с рыбой или языком, украшенное кружочками варёного яйца и моркови. Выглядело это как произведение искусства, а по сути — то же дрожащее желе.
Вся эта желейная эстетика появилась не от хорошей жизни — раньше в пищу шло всё, что можно было использовать. Кости, хрящи, всякие непрезентабельные части туши превращались в сытное блюдо. Желатин был дефицитом, поэтому варили долго, чтобы кости отдали всё своё. Я в детстве холодец терпеть не могла — эта консистенция казалась мне чем-то инопланетным, а заливное пугало своей прозрачностью, сквозь которую смотрели мёртвые рыбьи глаза. Сейчас иногда делаю холодец из индейки и говядины, с минимумом желатина — получается легче, но дух блюда сохраняется. И обязательно с хреном, без него никак.

Печёночные изыски
Говяжья печень, пожаренная до состояния подошвы, и гречка — дуэт, который в моём детстве появлялся на столе каждую неделю. Печень была полезной и дешёвой, гречка тоже. Мама каждый раз пыталась сделать печень мягче, вымачивала в молоке, но всё равно она получалась жёсткой, с характерным привкусом.
Но жареная печень была не единственным способом её приготовления. Из печени делали оладьи — смешивали прокрученную через мясорубку печень с луком, яйцом, мукой и жарили небольшими лепёшками. Получалось чуть мягче, чем куски, но всё равно со специфическим вкусом, который нравился далеко не всем детям. Зато взрослые уплетали за обе щеки, приговаривая: «Полезно! Железо!»
А ещё был печёночный торт — слоёная конструкция из печёночных блинов, промазанных майонезом с чесноком, луком и морковью. Выглядело это действительно как торт, иногда даже украшали сверху тёртым яйцом или зеленью. Подавали его на праздники как холодную закуску, нарезали ломтиками. Я в детстве обходила этот «торт» стороной — сочетание печени и майонеза казалось мне слишком странным. Но взрослые гости всегда хвалили: «Какая хозяйка! Даже печёночный торт сделала!»
Почему мы всё это ели? Потому что печень — это железо, витамины, белок — всё, что нужно растущему организму. И потому что на большее не всегда хватало. Печень куриная, говяжья, свиная — любая шла в ход. Дёшево, доступно, полезно. Сейчас я научилась готовить печень правильно — быстро, на сильном огне, чуть розовая внутри. С луковым конфитюром, брусничным соусом. Но иногда всё равно делаю по-старому и понимаю: это не просто еда, это часть истории.

Килька в томате с картошкой (и не только!)
Раздавить вилкой кильку прямо с костями, смешать с томатным соусом, намазать на хлеб или подать с варёной картошкой — вот вам и полноценный ужин. Для современного человека это звучит как издевательство над едой. Но тогда консервы были настоящим сокровищем, особенно в городах, далёких от моря.
Килька была доступной, а рыбий белок и жирные кислоты — необходимыми. Я помню эти синие банки с ключом на донышке, помню, как разворачиваешь консерву по спирали, и появляется густой томатный соус с плотно уложенными рыбками. Запах стоял на всю квартиру. Сейчас я покупаю кильку только в приступе ностальгии, обычно на даче. И знаете что? С молодой картошкой и укропом — это до сих пор вкусно.

Запеканка из всего, что осталось
Творожная (любимая многими в школе), картофельная, макаронная — запеканка была способом не выбрасывать еду. Осталась гречка? Запеканка. Недоеденные макароны? Запеканка. Творог начал закисать? Тоже запеканка. Всё заливалось яйцами, посыпалось сухарями и отправлялось в духовку. Результат мог быть непредсказуемым, но голодными мы не оставались.
Это было проявлением той самой советской находчивости — ничего не пропадало, всему находилось применение. Запеканка была уроком экономии и креативности одновременно. Сейчас я иногда делаю творожные запеканки по рецептам из интернета, с ванилью и изюмом, но те, советские, из «всего, что нашлось», были честнее. Они не притворялись десертом — они были просто способом справиться с бытом.

Котлеты с хлебом
Мясной фарш так щедро разбавлялся хлебом, размоченным в воде или молоке, что котлеты получались на 70% хлебными. А иногда мяса не было вообще — тогда делали капустные, морковные, даже крупяные котлеты. Мама называла их «биточками», и мы делали вид, что не замечаем разницы.
Мясо было дефицитом, хлеб — нет. Простая математика. Плюс хлеб делал фарш мягче, котлеты получались пышнее. В детстве я искренне думала, что так и должно быть. Сейчас, когда готовлю котлеты из чистого мяса со специями и травами, я всё равно добавляю немного хлеба — для сочности, говорю я себе. Но на самом деле — по привычке, по памяти.

Манка и молочные блюда
Ненавистная манная каша была в меню каждого детского сада и почти каждой советской семьи. Проблема была в комочках — их старательно избегали, но они всё равно появлялись, плавая в вязкой массе как маленькие несъедобные камушки.
Манку заставляли есть, обещая силу и здоровье, но чаще она вызывала только отвращение. А ещё была плёнка. Эта противная плёнка на поверхности остывшей каши, которую приходилось либо съедать, давясь, либо аккуратно снимать ложкой, пока воспитательница не видит.
Манка была дешёвой, быстрой и «полезной» — по крайней мере, так считалось. Это была удобная каша для массового питания. Но манкой молочные испытания не ограничивались. Была ещё молочная каша с вермишелью — скользкие макаронины в сладком молоке, которые слипались в один большой ком. Или гречка с молоком и сахаром — сочетание, которое до сих пор вызывает у меня вопросы: кто вообще это придумал? Горячее молоко смешивалось с рассыпчатой гречкой, и получалась какая-то странная сладкая каша, которую полагалось есть на завтрак.
Я до сих пор помню эти тарелки в детском саду, где манка уже остыла и покрылась толстой плёнкой, а воспитательница стояла над душой: «Пока не доешь, из-за стола не выйдешь». Молоко проливалось, вермишель прилипала к губам, сахар не растворялся до конца и хрустел на зубах. Сейчас я не готовлю манку. Никогда. Вермишель с молоком тоже. Это та часть прошлого, которую я с удовольствием оставила позади. Гречку ем только в солёном виде, и мысль добавить в неё молоко кажется мне преступлением против здравого смысла.

Хлеб (и вообще всё что только можно) с сахаром
Это даже не блюдо, это явление. Кусок белого хлеба, смоченный водой и посыпанный сахаром — десерт советского детства. Звучит странно? Ещё как. Но когда конфет не было, а сладкого хотелось, выход был именно таким. Вариации включали хлеб с вареньем (если повезло), хлеб с сахарным песком всухую, хлеб с сахаром, зажаренный на сковородке, горбушка пропитанная маслом и сахаром. Вообще, сахар был универсальным спасителем от пресности и однообразия советской кухни. Кефир пили с сахаром, потому что просто так он был кислым и невкусным. Макароны жарили с сахаром — и это считалось нормальным блюдом, а не кулинарным безумием.
Это было про отсутствие выбора и бесконечную детскую изобретательность. Хлеб был всегда, сахар тоже (обычно). Всё остальное — вопрос фантазии. Сахар превращал любое скучное блюдо во что-то более-менее съедобное, особенно для детей. Я помню, как мы с братом устраивали себе такой «пир» после школы, когда дома никого не было. Жареные макароны с сахаром казались деликатесом, а кефир без сахара даже не рассматривался как вариант. Сейчас это кажется диким, но тогда мы были счастливы. Иногда, в приступе ностальгии, я делаю французский тост — он же гренки с яйцом и сахаром. Это как хлеб с сахаром, только в приличном обличье.

Сосиски и котлеты в тесте
Покупные сосиски, завёрнутые в дрожжевое тесто и запечённые до золотистой корочки — это был настоящий деликатес школьных буфетов. Сейчас мы знаем, что в тех сосисках было всё, кроме мяса, а тесто часто получалось сырым внутри и пригоревшим снаружи. Но тогда, стоя в очереди с двугривенным в кулаке, я мечтала именно о них.
Сосиски в тесте были быстрым перекусом, который можно было съесть на ходу — идеально для вечно спешащих школьников и работающих родителей. Они продавались везде: в буфетах, столовых, киосках у станций метро. Я помню этот запах дрожжевого теста, смешанный с ароматом жареных сосисок — он заполнял весь коридор школы на переменах. Тесто прилипало к пальцам, сосиска была горячей и обжигала рот, но это было счастье.
Рядом с сосисками в буфете обычно лежали котлеты — те самые, столовские, в панировке. Они были плоские, овальные, часто уже остывшие и с твёрдой корочкой. Внутри фарш был сероватым и совершенно непонятного состава — явно не из чистого мяса. Но вот котлета в тесте, если повезёт её достать, это был полноценный обед за копейки. Котлета всегда была суше, чем хотелось, и часто разваливалась при первом укусе, роняя крошки на пол и одежду. Но мы ели и радовались — альтернативой был манник или кефир с булкой, что было ещё печальнее.
Сейчас иногда покупаю их детям в кафе, и каждый раз удивляюсь: они стали какими-то правильными, с настоящим мясом и слоёным тестом. Вкусно, но не то. Нет того духа советского буфета.

Сырники из кислого творога
Творог в советских магазинах быстро кисел, особенно летом. Выбрасывать его было немыслимо — продукты не выбрасывали никогда. Поэтому из него делали сырники, щедро присыпая сахаром, чтобы перебить кислятину. Получались эти самые сырники то резиновыми, то разваливающимися на сковородке, но главное — творог не пропадал.
Я помню эти горы сырников, которые мама жарила впрок и складывала стопкой на тарелке. К середине стопки они слипались в единую массу, и их приходилось есть холодными, макая в сметану. Нижние всегда были размокшими от масла. Сейчас я покупаю хороший свежий творог, добавляю ванилин и делаю идеальные сырники — пышные, с хрустящей корочкой. Но иногда, когда творог подзадерживается в холодильнике пару дней, я ловлю себя на мысли: «Ну вот, теперь можно сырники делать». Условный рефлекс.

Хворост
Тонкие полоски теста, завязанные узелками или скрученные бантиками, обжаренные в кипящем масле и щедро присыпанные сахарной пудрой — хворост был одним из немногих домашних десертов, который готовили не только на праздники. Тесто для хвороста делалось простое: мука, яйца, немного сахара, иногда водка или коньяк для хрупкости. Раскатывали тонко-тонко, резали на полоски, делали прорезь посередине и протягивали через неё один конец — получался такой завиток.
Самым важным был момент жарки. Масло должно было быть очень горячим, чтобы хворост мгновенно схватывался и становился золотистым и хрустящим. Я помню, как мама стояла у плиты с глубокой сковородой, опуская порцию за порцией хвороста в кипящее масло. Он тут же начинал пузыриться, увеличиваться в размере, становился румяным. Вытаскивала шумовкой, клала на бумажные полотенца, чтобы стёк лишний жир, а потом густо посыпала сахарной пудрой через ситечко.
Хворост был универсальным угощением и к чаю, и просто так, когда хотелось сладкого. Хранился он хорошо, в жестяной банке мог лежать неделями (если его не съедали раньше). Это был десерт, который могли позволить себе все: продукты простые, а результат всегда впечатляющий. Горка золотистых хрустящих полосок под облаком сахарной пудры выглядела празднично и аппетитно.
У хвороста, правда, был минус, от жарки весь дом пропитывался запахом масла, да и сам процесс был довольно маслянистым. Руки, стол, пол — всё покрывалось брызгами. Но ради этого хруста, этой сладости, тающей на языке, можно было и потерпеть. Я в детстве обожала ломать хворост на мелкие кусочки и есть медленно, растягивая удовольствие. Сейчас я делаю хворост только на Масленицу или когда приезжают родители — они просят, ностальгируют. И каждый раз, когда достаю первую порцию из масла, я снова в той маленькой кухне, где мама колдует у плиты, а я жду, когда же можно будет стащить ещё тёплый хворост с тарелки.

Читайте также: 40+ лучших десертов на любой случай
Салат с кукурузой и крабовыми палочками
Этот салат ворвался в постсоветскую жизнь как символ переходной эпохи, изобилия и новых возможностей. Крабовые палочки, рис, кукуруза, яйца и майонез — состав, который с точки зрения гастрономии не имеет никакого смысла. Палочки называются крабовыми, но к крабам отношения не имеют — это рыбный фарш с ароматизаторами и красителем. Но в 90-е они казались деликатесом, чем-то заграничным и модным.
Я помню, как этот салат появился на каждом празднике — дне рождения, свадьбе, корпоративе. Его делали в огромных количествах, потому что продукты были доступными, а вид получался праздничный — яркий, с красно-белыми полосками палочек. Рис разбухал от майонеза, кукуруза хрустела на зубах, яйца добавляли сытности. Это был салат-компромисс: не дорого, не сложно, но выглядит прилично. Сейчас я его не готовлю — слишком много майонеза, слишком мало смысла. Но если вижу его на фуршете, обязательно попробую. Ностальгия сильнее здравого смысла.

Современный взгляд
Удивительно, но многие из этих блюд живы до сих пор. Оливье и шуба остаются королями новогоднего стола, холодец подают на поминках и семейных обедах, а макароны с тушёнкой спасают студентов и холостяков по всей стране. Секрет прост: эти блюда можно «обновить» без потери души. Сделать оливье с перепелиными яйцами и домашним майонезом. Облегчить шубу, используя йогуртовую заправку. Приготовить холодец из достойных частей мяса с правильными специями. Суть останется той же, но блюдо станет вкуснее и честнее.
Заключение
Советская кухня — это не про высокую гастрономию и не про идеальные вкусовые сочетания. Это про память, про заботу в условиях ограниченных возможностей, про умение создать праздник из того, что есть. Да, многие блюда той эпохи сегодня выглядят странно. Да, мы иногда стыдимся признаться, что до сих пор их готовим. Но когда я чувствую запах селёдки под шубой или вижу тазик с оливье, я снова дома — в той маленькой кухне, где мама колдовала над плитой, превращая простые продукты в семейное счастье. И это дороже любых мишленовских звёзд.
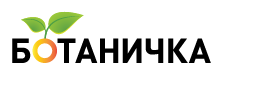












Спасибо за эту душевную статью! Возможно, она такова только для тех, кто «родом из СССР», но мы ведь не все ещё вымерли…
Ничего я не стыжусь! Кто стыдится своего прошлого, тот не достоин будущего.
Поддерживаю! Никакого стыда. Всё было неимоверно вкусно и питательно, главное с душой, для живых и энергичных людей самое то. И сегодня, мне кажется, что лучше простой гречи с молоком или печенью ничего нету) Всё гениальное просто!
Современная же кухня от лукавого, это не про еду — это про понты.
Я удивлена, не знаю, то ли для красного словца то ли Ваша мама и бабушка были отвратительными хозяйками. Тазик, в котором стирали, готовили оливье? Эмалированная посуда стоила дешево и никогда не была дефицитом, у всех хозяек всегда были огромные миски или кастрюли как раз для таких случаев, как оливье на большую компанию. Где Вы жили в детстве? Холодец из копыт никто не варил, для этого были хвосты, поросячьи ножки с маленькими выскобленными копытцами. А уж почему мама с бабушкой не смогли с печенью справиться, видимо от большого таланта. Коль Вы в таких условиях росли, понятно Ваше отвращение к пище. Творог не всегда был кислым, а из нормального творога и сырники вкусные и запеканки. Я не понимаю зачем эта статья? На весь белый свет показать какие мы идиоты?
мне искренне жаль автора статьи. видимо тяжёлое детство. мы жили небогато. отец рано умер. мать учитель. но я помню скорее вот это [ссылка] и это не ложные воспоминания